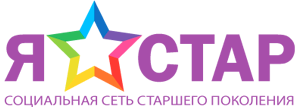Посвящается памяти Майи Плисецкой
«Пока она говорила, я осторожно разматывал тряпки. Под ними на ноге был слой какой-то мази и… Мне пришлось сдержать себя, не показать удивление и отчаяние…»
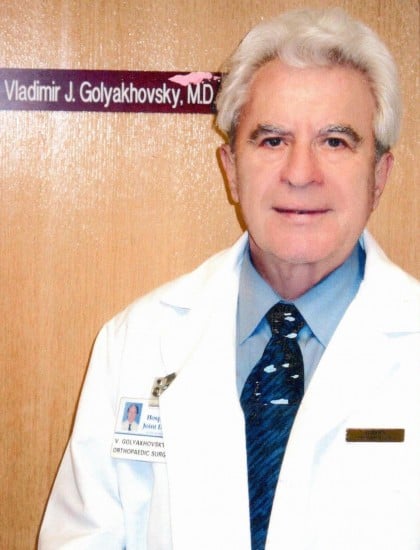
Владимир Голяховский
Об авторе публикации. Читатели нашего журнала знакомы с Владимиром Юльевичем Голяховским. Его работы с шаржами в последнее время дважды печатались на страницах еженедельника (27.11.2015 и 04.03.2016)
Владимир Голяховский — талантливый и многогранный человек. Свою профессиональную жизнь он начинал на карельской земле.
Прежде всего это советский и американский хирург-ортопед, учёный-медик и писатель. Известен своим вкладом в науку и практическую травматологию. Он первый в мире разработал и поменял локтевой сустав. В. Голяховский был дружен с выдающимся травматологом современности Г.А. Илизаровым. Им написан атлас по методам удлинения и коррекции костей аппаратом Илизарова на английском языке, а потом переведен на русский. Он же выполнил иллюстрации к атласу.
В.Голяховский — автор многих известных книг автобиографического и художественного характера. Им выпущено восемь детских книг стихов, которые он сам иллюстрировал.
Сегодняшняя публикация посвящена драматическим событиям из жизни выдающейся балерины современности Майи Плисецкой.
Часть первая
 Сцена из балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро». Одетта — Майя Плисецкая, принц Зигфрид — Николай Фадеечев. 1963 г. Фото: РИА Новости
Сцена из балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро». Одетта — Майя Плисецкая, принц Зигфрид — Николай Фадеечев. 1963 г. Фото: РИА Новости
Это случилось в декабре 1969 года. В репетиционном зале Большого театра лежала, скрючившись от боли, маленькая женшина в тренировочном костюме и рыдала от боли. Во время репетиции балета «Лебединое озеро», на очередной небольшой переделке, она недостаточно разогрела мышцы упражнениями. Танцуя, она вдруг ощутила резкую боль в левой ноге, повалилась на бок и не могла встать. Это была Майя Плисецкая.
Вокруг неё испуганно и участливо столпились артисты, не понимая, что случилось, не знали, чем помочь, как успокоить. Её партнёр Николай Фадеечев побежал за массажистом театра Готовицким, которого все звали Женькой. Своего врача Большой театр не имел, на двести пятьдесят танцовщиков Женька был единственным многолетним авторитетом в вопросах болей и травм. А у балетных всегда что-нибудь болит — такая у них профессия. Кое-что в этом Женька понимал и многим помогал.
Беда была в том, что он всегда находился в состоянии подпития. И на этот раз он тоже был нетрезв, а увидев, что пострадавшая сама прима-балерина и что случай не совсем простой, перепугался. Он сбегал в массажную и принёс флакон хлорэтила — замораживающего кожу средства.
— Где болит?
— Вот здесь и здесь, и здесь… — нога в этих местах быстро опухала.
— Так, это у тебя гематома, кровь накапливается. Сейчас помогу, — он начал поливать кожу тонкой шипучей струёй, она покрылась коркой инея.
— Ну, как — полегчало?
— Немного легче.
Фадеечев недовольно качал головой:
— Майя, надо срочно ехать в ЦИТО.
Для верности Женька добавил ещё замораживающего — на дорогу, так что кожа покрылась ледяной коркой. Как-никак — артистка-то народная, они все капризные.
ЦИТО — это Центральный Институт Травматологи и Ортопедии, там было отделение спортивной и балетной травмы, у балетных была проложенная дорога.
Плисецкую отнесли на руках к машине. Балетным не привыкать носить балерин. У Фадеечева был микроавтобус «Фольксваген», редкость в те годы, купленный за иностранную валюту в одну из заграничных поездок (у него был дог — громадная псина, в другие машины он не помещался). В автобусе было удобней уложить Плисецкую на заднее сидение.
В приёмном отделении ЦИТО поразились, увидев, как Фадеечев вносил на руках и кого — саму Плисецкую! Сёстры обомлели от неожиданности, врач растерялся, срочно позвонил в отделение спортивной травмы:
— Поступила народная артистка Майя Плисецкая. У неё травма.
Пока записывали и оформляли историю болезни, слух о поступлении знаменитости распространился по всем шести этажам института и любопытные сотрудники приходили посмотреть на знаменитость через открытую дверь. А сама знаменитость лежала на топчане, стонала и морщилась от боли.
Отделением травмы заведовала профессор Зоя Миронова, бывшая чемпионка по конькобежному спорту. В спортивном мире у неё было авторитетное имя. Для важной пациентки её вызвали с операции, пришлось ждать. Наконец, Миронова пришла с двумя молодыми ассистентами. Она осматривала и щупала ногу, ассистенты с почтением глядели на Плисецкую, а она вскрикивала от боли, когда Миронова сгибала и разгибала её ногу.
— Майя Михайловна, у вас разрыв мышцы.
— Разрыв мышцы?! Что надо делать?
— Наложим вам гипсовую повязку и положим в моё отделение.
— В отделение? А домой нельзя?
— Нельзя, надо за вами наблюдать хотя бы неделю, пока боль не пройдёт.
Плисецкая не очень хорошо понимала, чем грозит разрыв мышцы, что такое гематома, которую упомянул Женька, и почему нужна так надолго гипсовая повязка. Больной, которого осматривает и лечит доктор, никогда не знает до конца всех деталей своего диагноза и всей методики лечения. А больные с травмой к тому же всегда находятся в состоянии психологического шока, им не до расспросов. Но надо верить и слушаться.
Миронова дала указание ассистентам наложить длинную гипсовую повязку:
— От пальцев стопы до середины бедра, и найдите для Плисецкой отдельную палату, одноместных палат у нас очень мало.
Сама она гипс не накладывала — это ниже её квалификации, а у ассистентов в этом достаточно опыта. Но надо было врачам понимать, с какой ногой они имеют дело. Для балерины нога — это её инструмент. А нога такой балерины — это драгоценный инструмент. С ней надо быть очень осторожным. Чтобы мышца срослась в правильном соотношении, стопе надо придать положение под прямым углом, иначе возникнет тугоподвижность в голеностопном сутаве — это гибель для балерины, которая танцует на пуантах. Но понимания всего этого у ассистентов было мало, а Миронова не уточняла. К тому же в СССР не было хороших прогипсованных фабричных бинтов, их не производили. (По всей стране санитарки в больницах накатывали их вручную; гипсовый порошок был плохого качества, с большим процентом серого кальция, с комками. Они просеивали его через обычное сито, потом расстилали бинт, посыпали его порошком и сворачивали. Получался рыхлый комок).
Ассистенты наворачивали на ногу Плисецкой смоченные в воде бинты. Процедура была болезненная — ногу надо поддерживать в правильном положении, каждое сотрясение отдавало в разорванный участок. Квалифицированно, для предохранения кожи от ожога гипсом нужно предварительно смазать её вазелином, потом намотать на ногу мягкую прокладку, а уже поверх неё наворачивать гипсовые бинты. Но этого почти никогда не делали, и Миронова об этом ничего не сказала. Так что гипсовые бинты наложили прямо на замороженную кожу.
Это сказалось уже на следующий день. Плисецкая жаловалась, плакала, просила докторов и профессора помочь, избавить её от боли. Они выслушивали, обещали помочь, а сами считали её жалобы капризами избалованной звезды.
Условия и уход были примитивные: кровать узкая, матрас плохой, встать с кровати она не могла — гипсовая повязка тяжёлая, туалет в конце коридора, а дозваться кого-нибудь было невозможно. Телефона не было (это происходило задолго да появления мобильных телефонов). Поэтому у неё постоянно сидели по очереди то мама Рахиль, то муж, то приятельницы.
Приходил проведать сам директор института академик Мстислав Волков, он был польщён знакомством со знаменитостью, проявил внимание и уговаривал её «немного потерпеть». Но главное — боль, боль. Никто не хотел вникнуть в то, что делалось под гипсом, а там кальций начал разъедать обожжённую хлорэтилом и незащищённую кожу.
Через три дня измученная Плисецкая категорически потребовала снять гипсовую повязку и выписать её домой. Она угрожала, что будет жаловаться министру здравоохранения, а у неё, звезды балета и любимицы правительства, такая возможность была. Когда разрезали и сняли гипсовую повязку, то увидели, что замороженная кожа начала отмирать. Плисецкая пришла в ужас и разрыдалась. Стараясь успокоить, ей наложили повязку с мазью. Приехали её муж Родион Щедрин и партнёр Николай Фадеечев. Они вдвоём несли её на руках к машине, во всём институте не было ни одного кресла на колёсах.
***
Всё это я услышал от самой Плисецкой две недели спустя, когда меня попросили взяться за её лечение. Хотя я работал в том же институте ЦИТО, в другом отделении, но ко времени её травмы я был в отпуске в подмосковном Доме творчества писателей «Малеевка» — заканчивал там писать докторскую диссертацию. Буквально через день после моего возвращения в Москву, мне позвонила добрая знакомая нашей семьи Клара Хренникова, жена композитора Тихона Хренникова.
— Володя, надо срочно спасать ногу Майи Плисецкой.
— Плисецкой? Что с ней случилось?
— Что-то серьёзное с ногой, но её плохо лечат, она недовольна. Тебе позвонит её муж Родион Щедрин. Пожалуйста, возьмись лечить её. Уже даже в правительстве забеспокоились, что с ней, сможет ли она танцевать? Нельзя, чтобы пропала такая нога.
Я не знал деталей, но мне стало ясно, что меня просят взяться за очень непростое лечение. Просьба была приятельская, но она взваливала на меня груз ответственности. Я не был балетоманом, но видел Плисецкую на сцене, восхищался её искусством и понимал её значение. И вот по просьбе Щедрина я ехал к ним на метро, на станцию «Маяковская», и волновался, какое повреждение ноги я увижу и как мне держаться с Плисецкой? Ореол славы всегда волнует, я по опыту знал, что звёзды искусства очень своевольны — они желают, чтобы им делали только то, что они хотят, вмешиваются в лечение, ничего в этом не понимая, мешают врачам. Я решил, что не стану поддаваться капризам королевы балета, буду вести себя как твёрдый профессионал.
Плисецкая с Щедриным жили на шестом этаже дома № 25, на улице Горького (теперь Тверская), в дорогом кооперативном доме актёров. Дверь мне открыл Родион:
— Мы вас ждём, — помог снять пальто и проводил через гостиную в большую спальню. Там на громадной кровати лежала маленькая женщина, её левая нога была замотана горой каких-то тряпок и шерстяных платков — сама намотала, чтобы греть. Она прожигала меня жгучим взглядом, глаза очень выразительные. В них и надежда, и отчаяние, и мольба. Они протянула слегка хриплым голосом:
— Про вас говорят, что вы делаете чудеса
Я пропустил это мимо ушей, потому что знал манеру московской интеллигенции — преувеличивать.
— Майя Михайловна, расскажите, что случилось и что болит.
Она стала злобно рассказывать про лечение в ЦИТО, даже не понимая всех сделанных там ошибок. Пока она говорила, я осторожно разматывал тряпки. Под ними на ноге был слой какой-то мази и… Мне пришлось сдержать себя, не показать удивление и отчаяние. Главный закон медицины со времени основания Гиппократом — НЕ НАВРЕДИ. Но Плисецкой сильно навредили.
Нога была отёчная, покрасневшая, по задней поверхности, ниже колена, зияла сплошная язва — чёрные хлопья омертвевшей кожи островками сидели на кровоточащей поверхности. Двигать ногой она почти не могла, её знаменитая стопа бессильно свисала книзу.
Плисецкая впилась в меня громадными глазами, сбоку стоял Шедрин и тоже испытывал меня взглядом. У них уже побывало много специалистов, но никто не помог. Они ждали от меня действительного чуда. А я сидел в позе «Мыслителя» со скульптуры Родена и думал: что делать? Состояние ноги было отчаянное: большой разрыв важной икроножной мышцы, невозможность двигать стопой, омертвение кожи. Всё было запущено плохим лечением. Любую травму важно сразу начинать правильно лечить, не теряя времени, потом это намного сложней и дольше.
Я прикидывал, что сказать. Нельзя начинать с того, чтобы слишком обнадёжить, но и нельзя запугивать неуверенностью. И чем вообще можно помочь такой ноге? Надо пробовать, что поможет. А она изучала меня глазами и продолжала жаловаться:
— Мне звонила Екатерина Алексеевна Фурцева (это была всесильный министр культуры), она прислала ко мне специалистов из Кремлёвской больницы. Я как народная артистка их контингент. Но они ничем не помогли, только хотели, чтобы я легла в их больницу. А зачем я туда пойду? Я кремлёвским врачам не доверяю. Их набирают только по партийной принадлежности. Даже поговорка есть: «В «Кремлёвке» полы паркетные, а врачи — анкетные». Я вообще не хочу в больницу, мне хватило мук в ЦИТО. Я устала от боли. Долго ли я буду так мучаться? Мне ведь надо танцевать, у меня скоро гастроли в Японии. Пожалуйста, лечите меня дома. Не бросайте меня.
«Не бросайте»… Я слушал и думал: хорошо, если ты вообще сможешь танцевать. Но не мог же я сказать это кому — Плисецкой! Я старался не показать своих сомнений, но мне невероятно жалко стало её. Врач никогда не должен быть равнодушным к страданиям своего больного, но слушая страдальческий голос этой великой женщины, я почувствовал глубокое сострадание к ней, как к очень близкому человеку. И я решил, что должен бороться за её ногу, вылечить во чтобы то ни стало.
— Мая Михайловна, давайте начнём лечение. Видно будет, как оно пойдёт.
— Когда вы начнёте?
— Прямо сегодня. У меня есть швейцарский препарат — плёнка для лечения кожи. И надо наложить новую гипсовую повязку.
— Я боюсь гипса.
— Этот будет меньше и только на половину поверхности ноги, это называется съёмная лонгета.
— Мой шофёр отвезёт вас и привезёт обратно. Пожалуйста, не бросайте меня!
Был уже поздний вечер, на новой «Волге-21» я ехал в институт и по дороге обдумывал ситуацию. Как могу лечить Плисецкую на дому? Это ведь не просто визиты, это настоящее хирургическое лечение, требующее ежедневного осмотра и манипуляций. Частной практикой я не занимался, в советской России она была запрещена и даже наказывалась законом. Я лечил знакомых на дому, но денег с них не брал. Я зарабатывал прилично, был старшим научным сотрудником. К тому же книги моих детских стихов широко печатались. В писательском и актёрском мире у меня были широкие знакомства: моими пациентами были звёзды эстрады Миронова и Менакер, семья Аркадия Райкина, директор цирка Юрий Никулин, композиторы Хренников, Фрадкин. Среди писателей — поэт Леонид Мартынов, Наталья Кончаловская (жена Сергея Михалкова), семья Роберта Рождественского и многие другие. Эти люди нередко просили меня лечить их и их знакомых, дарили подарки и составляли разные протекции (без протекций жить было тяжело). Со многими из них мы с моей женой Ириной становились приятелями, встречались домами. Плисецкая в отчаянии звонила многим, хватаясь за советы как утопающий за соломинку, и от Хренниковых услышала про меня. Да, это всё так. Но такого тяжёлого медицинского случая для домашнего лечения, как её нога, у меня ещё не было.
Мы подъехали к институту. Что взять для перевязки ноги? У меня был свой запас плёнки швейцарского препарата «солкосерил» и несколько немецких фабричных нагипсованных бинтов. Это досталось мне с международной выставки «Ортопедия-69» в парке «Сокольники». На ней у меня был стенд: я демонстрировал своё изобретение — искусственный металлический локтевой сустав (В 1967 году я сделал первую в мире операцию замены раздробленного локтевого сустава по своему методу). Руководство моего института ЦИТО не делало никакой рекламы моему изобретению и этой операции, меня не поддерживали и недолюбливали — я не был членом партии коммунистов, к тому же полуеврей. Но на выставке соседи по стендам, из разных стран, заинтересовались моим суставом. Англичане даже предлагали купить изобретение (дирекция института отказалась по той же причине, а жаль — это вывело бы меня и наш институт на мировую арену, потом я узнал, что американцы сделали такую операцию на шесть лет позже меня). Но на той выставке я увидел много полезного и попросил для своей работы этот «солкосерил» и гипсовые бинты
Кроме этого, для перевязок ноги Плисецкой мне было нужно много препаратов и оборудования: новокаин для местного обезболивания, шприцы, иглы, марлевые салфетки, спирт — много всего. В поздний час в перевязочной никого не было, и хоть нельзя брать институтское, я про себя подумал: это возмездие за плохое лечение Плисецкой. И просто всё своровал. Вернулся я в квартиру Плисецкой, нагружённый материалами.
* * *
В тот вечер её роскошная спальня превратилась в перевязочную. Я не знал, куда разложить привезенное оборудование.
— Кладите всё на рояль, — сказала она.
В спальне стоял громадный белый рояль, очень красивый. Он производил впечатление белого слона. Я удивился — вроде бы ему там не место. Она объяснила:
— Это подарок Сола Юрока, знаменитого американского антрепренёра. Я танцевала в Америке, он сказал мне: я на вас сделал хорошие деньги и дарю вам рояль. А у Родиона в кабинете есть свой кабинетный рояль. Гостиная у нас одновременно и столовая, там места мало. Вот мы и поставили его в спальне.
Я разложил всё на рояле и занялся приготовлением процедуры. Сначала я сделал ей новокаиновую блокаду, чтобы снять боль. Одноразовых шприцов и иголок тогда не было, я кипятил их на кухне с помощью домработницы Кати. После обезболивания я очистил кожу от чёрных лоскутов некроза и наложил на язвы плёнки с солкосерилом. По ходу работы я всё объяснял Плисецкой и Щедрину, чтобы им было ясно, что и зачем я делаю. Потом я обмотал кожу ноги мягкой ватной прокладкой. На кухне я сделал короткую гипсовую лонгетку, намочил её в тазу и бежал с ней через гостиную в спальню, чтобы не забрызгать гипсом пол. Лонгетку я наложил не на кожу, а на прокладку. И придал правильное положение стопе. Когда я держал в руках эту стопу, я думал: сколько миллионов глаз во всём мире с восторгом смотрели на неё, когда Плисецкая танцевала на пуантах «Умирающего лебедя»…
Она и Родион с интересом следили за моей суетой, она покорно всё переносила, довольная тем, что не было больно. Очевидно, процедура убедила её в моём умении, она уже не смотрела на меня испытующе, а спросила доверительно:
— Когда я смогу танцвать? У меня гастроли в Японии, я должна им сообщить.
— Майя Михайловна, надо проследить, как пойдёт заживление. А после этого нужны будут занятия лечебной гимнастикой, чтобы восстановились движения и силу.
— А когда вы приедете ко мне опять? Пожалуйста, не бросайте меня.
Значит, она поверила в меня.
— Позвоните мне завтра утром, как будете себя чувствовать. Я вас навещу.
— Я пришлю за вами машину, она всё равно мне не нужна.
Когда я уходил, Родион в последний момент стал неловко совать мне в карман конверт с деньгами. Мне тоже стало неловко.
— Я с Плисецкой деньги не возьму.
Не мог я, не мог взять с неё деньги. Я не объяснял, но меня переполняло чувство удовлетворения: Плисецкая доверилась моему умению.
Так началась эпопея спасения ноги балерины.
Часть вторая
В своей книге «Я — Майя Плисецкая», в главе «Мои травмы», она написала: «Я разорвала мышцу ноги … и хирург Голяховский ездил ко мне по несколько раз в день через весь город из ЦИТО».
Действительно, много было у меня работы с её ногой. К тому же она вся была как комок нервов и звонила мне домой по 4-5 и больше раз в день, иногда даже поздно ночью (актёры люди ночные), нервничала, задавала массу вопросов, переспрашивала, хотела всё знать вперёд.
А я ещё и сам не знал, насколько и когда поправится её нога, которую изуродовали неправильным лечением. Не все больные поправляются полностью после травмы. В медицине нет ничего стопроцентного — у кого-то остаются деформации и рубцы, какой-то процент даже становится инвалидами. Доктора — не боги, они помогают природе достичь излечения, но ведь бывают и неудачи. Однако, представить себе, что Майя Плисецкая может стать моей неудачей, было страшно. Я волновался, как подействует на рану солкосерил, с которым раньше не имел дела, поэтому часто перевязывал её. Она хотела слышать от меня уверения в полном излечении, и пугать её сомнениями — навести на неё ужас. Но в душе я не мог вполне уверенно обещать ей это.
Как настоящая звезда, она оказалась очень нетерпеливой и капризной больной. А мне-то как раз нужно было иметь много терпения, тем более, что я тоже нервничал по поводу своей диссертации, волновался за исход будущей защиты — в Учёном совете института у меня было много недоброжелателей. Между тем в нашем институте распространились слухи: это «выскочка» Голяховский за большие деньги лечит Плисецкую на дому, втёрся к ней в доверие, ездит на её машине. Профессор Миронова перестала со мной здороваться. То, что она плохо лечила Плисецкую, она не хотела знать, и злилась, что я «отнял» у неё Плисецкую. Люди сплетничали, а «злые языки страшнее пистолетов» (из «Горя от ума»). Поразил меня директор института Волков:
— Как вы посмели лечить Плисецкую, не спросив меня и ни разу не позвав к ней?
Я расстроился. Это не предвещало ничего хорошего, особенно перед защитой диссертации. Он не был специалистом по лечению травмы, его специальность — детская ортопедия. Поэтому, хоть он и академик, мне в голову не приходило советоваться с ним. Но ему хотелось «примазаться» к славе её выздоровления.
Я поделился с Плисецкой:
— Какая ужасная зависимость! Почему я должен его спрашивать? Я ведь лечу вас не в институте, а дома.
Она воскликнула:
— Зависть! Пошлите его на …! — в выражениях она не стеснялась. — Вы думаете мне не завидуют и не распускают грязные слухи? Совсем недавно, в 1967 году, сразу после шестидневной войны и победы Израиля над арабскими странами, в газете «Правда» поставили без моего разрешения моё имя под письмом протеста против Израиля. Там стояли подписи всех известных евреев, учёных и работников искусства, — нас выставляли на мировой позор. Все евреи втайне гордились победой Израиля, но говорить об этом вслух боялись. А после той фальшивой подписи на меня сразу обрушился шквал сплетен.
Я спросил:
— А если бы вы запротестовали против этого, неужели власти могли сделать что-либо с вами, такой знаменитой?
— Всё могли! Они не дали бы мне танцевать, сломали бы мою жизнь, стёрли бы меня в порошок. Я для них такое же говно, как все.
Но сплетни сослуживцев не помешали мне лечить её по-своему. Из-за большого преклонения перед ней я всегда был готов к ней приезжать. Стоял морозный и снежный январь, мой «Жигулёнок» стыл под шубой снега. Но машина Плисецкой, с шофёром, всегда была у меня на подхвате, и это облегчало нагрузку. Я бывал у неё ежедневно по два, а то и три раза, для её успокоения. Больному всегда нужно внимание и ободрение. А Плисецкая нуждалась в этом в три раза больше, чем кто либо.
Но вот нога перестала болеть, я с удовлетворением видел, что отёк спал, цвет кожного покрова восстанавливался, на месте хлопьев замороженной кожи формировался новый слой, замещая умерший. Теперь я сам уверился в излечении внешнего вида ноги и убедительным тоном рассказывал ей, что происходит, вселял веру в улучшение.
Из-за гипсовой лонгеты она была прикована к постели, её мышцы слабели. Я привёз ей костыли и показвал, как ими пользоваться. Она попыталась неумело прыгать на одной ноге, опираясь на костыли, я поддерживал её, чтобы не упала. Видеть Плисецкую на костылях — это было ужасное зрелище. Ей нужен был walker (ходилка), для упора на руки, какие были в больницах во всём мире. Но в Советской России их не производили.
Я учил её делать разные упражнения, чтобы не ослабли обе ноги. И вот парадокс: она перетанцевала десятки разных балетов, наизусть помнила все сложнейшие движения, но никак не могла запомнить самые простые упражнения. Смотрела на меня внимательно, переспрашивала:
— Это вот так?
— Не совсем так. Лучше делайте так.
— А сколько раз?
— Делайте каждый час по десять движений.
— Ой, как это сложно запоминать!
Только я уезжал домой, она звонила:
— Вы сказали мне сгибать ногу в колене десять раз каждый час. Можно делать больше и чаще?
— Нет, нельзя — ваши мышцы ещё слабы, им нужна постепенная нагрузка.
— Но нога — это же мой инструмент. Для бухгалтера это неважно, а мне нужна полностью здоровая нога, и как можно скорей. Ну, пожалуйста, я хочу скорей.
— Майя Михайловна, слушайтесь меня.
Чтобы она следовала моим указаниям, я должен был подчинить себе её волю. А Плисецкой подчиняться ой как нелегко — натуре богатой, бурной и избалованной. Она была настоящая львица во всём. Но часто видя меня рядом, она ко мне привыкала, как львица привыкает к дрессировщику.
* * *
Иногда, после перевязок и упражнений, я оставался сидеть возле её кровати и мы беседовали на отвлечённые темы — о жизни и искусстве. Как-то раз она задумчиво сказала:
— Я иногда думаю: какие великие люди были в нашем Большом театре: Шаляпин, Нежданова, Собинов. Какие про них рассказывают интересные истории.
Я слушал и думал: а ты сама? Ведь и про тебя будут рассказывать интересные истории, ты тоже великая.
Она была очень живой рассказчик, я поражался остроте и меткости её мыслей и рассказов. В её натуре была богатая палитра эмоциональности — говорила она так же эмоционально как и танцвала. Язык у неё был образный, резкий, в речь вставлялись ходовые словечки, не всегда приличные.
Она рассказывал о разных эпизодах из своей яркой жизни. Ничего о ней и её семье я не знал и впервые услышал, какое было у неё непростое и тяжёлое детство. Семья происходила от деда — известного зубного врача Мессерера. Все его дети — трое сыновей и дочерей — стали известными актёрами. Двое — дядя Асаф и тётка Суламифь — были в 1930-е — 1940-е годы ведущими солистами балета Большого театра. Отец, Михаил Плисецкий, преданный коммунист, занимал большой пост советского представителя на острове Шпицберген. Но в 1937 году его арестовали и расстреляли, а в 1953-м посмертно реабилитировали «за отсутствием состава преступления». Её мать Рахиль, киноактрису старого немого кино 1920-х годов, арестовали и сослали. Детей — Майю и двух младших братьев Александра и Азария — воспитывали родные. Можно ли удивляться, что она крепко не любила советскую власть и говорила о ней злобно.
Но сама власть, её главные властелины, Плисецкую как раз очень любили: она танцевала перед Сталиным на его 70-летии — вскоре после этого ей дали звание заслуженной артистки; потом она много раз танцевала при Никите Хрущёве, развлекая балетом «Лебединое озеро» его и его иностранных гостей — ей дали звание народной артистки республики; после отставки Хрущёва она так же развлекала Леонида Брежнева, и получила звание народной артистки Советского Союза и высшие ордена.
Мне она рассказывала про выступление перед Сталиным:
— Это было в 1949 году, я была молодая солистка Большого. Меня вызвали в комсомольскую организацию: тебе доверена большая честь — выступать на концерте перед самим товарищем Сталиным в день его семидесятилетия. У меня от страха сердце ёкнуло. Коммунисты тогда сделали из этого грандиозное всенародное торжество — Сталин был выше отменённого им Бога, ему все были обязаны поклоняться. Концерт был в Георгиевском зале Кремля. Мне дали исполнить «уличную танцовщицу» из балета «Дон Кихот», там большие прыжки. В тесной артистической уборной я переоделась к выступлению и перед открытием занавеса направилась через сцену к ящику с канифолью для туфель, чтобы не скользить. За кулисами на каждом углу стояла мрачная охрана. Один меня остановил: «Куда?» — «Я поканифолиться» — «Завтра поканифолишься!». Я съёжилась от страха. Начала танцевать — катастрофа: паркетный пол до блеска натёрт воском, скользко, я боялась упасть. Сталин сидел за столом с китайским вождём Мао Цзедуном, близко от сцены, смотрел на меня грозно. Я чувствовала на себе угрюмый взгляд его жёлтых глаз и видела рыжие усы. Страшно было, но обошлось. Ну а когда после его смерти в 1953 году к власти пришёл Хрущёв, Сталина развенчали и началась хрущёвская оттепель, уже стало не так страшно. Хрущёв при личных встречах говорил: «Какая вы маленькая! А со сцены кажетесь большой» — сцена всегда крупнит. На спектакли Хрущёв приводил в царскую ложу своих гостей — короля Афганистана, шаха Ирана, президентов разных стран. И всегда только на «Лебединое». Им балет нравился, они такого не видели, приходили после представления с Хрущёвым за кулисы, благодарили. А он мне шептал: «Если бы вы знали, как я устал смотреть «Лебединое озеро» по необходимости». Ну а потом и Хрущёва сняли и развенчали в 1964 году. Теперешний наш вождь Брежнев любит целоваться — при каждой встрече на приёмах в Кремле лезет поцеловать меня в щёку.
Властители вряд ли понимали высокое искусство Плисецкой, но были горды успехами советского балета как достижением социализма. В одной из песен Владимир Высоцкий писал с иронией: «… а также в области балета мы впереди планеты всей».
И хотя власти награждали Плисецкую званиями и орденами, однако долго не хотели выпускать на гастроли на Запад. Наконец, когда выпустили, её слава разлетелась по всему миру.
* * *
Прошло более месяца, наступил день, когда я снял с ноги Плисецкой гипсовую лонгету, но движения в суставах были скованные, и я решил, что ей надо делать упражнения в тёплой воде. Тем более что новая кожа полностью сформировалась,
Она была счастлива — уже давно она не могла купаться и принимать душ. Но до ванной надо добраться, а она плохо двигалась с костылями. Родиона не было дома, я заполнил ванну тёплой водой, взял мою пациентку на руки, она обняла меня за шею, и я понёс её в ванную и бережно опустил в воду. Она весила всего сорок семь килограммов. Пока я её нёс, сам себе не верил: сколько раз я видел, как балетные партнёры носили её на сцене, а теперь я сам несу на руках Майю Плисецкую!
Эти упражнения надо было делать каждый день, и я ещё несколько раз носил её в ванную, потому что Родион не всегда был дома. Он тогда писал кантату «Ленин в сердце народном» — собрание песен на народные сказания. Вся страна готовилась отметить столетие со дня рождения Ленина, партийные организации требовали, чтобы все театры, все выставки и новые сочинения были посвящены Ленину. Культ Ленина коммунисты подняли выше культа Иисуса Христа у верующих. Родион не был членом партии, но для карьеры включился в эту гонку. К нему приходила знаменитая певица Людмила Зыкина, исполнительница русских народных песен и романсов, любимица Брежнева. Они с Родионом репетировали в его кабинете под рояль рассказ старой гардеробщицы, как она, из любви к Ленину, пришила недостающую пуговицу на его пальто. Рассказ, полный умиления перед Лениным, действительно существовал, его даже печатали в школьных учебниках. Щедрин переложил его на музыку в ряду с другими подобными. Из его кабинета слышался низкий зычный голос Зыкиной.
Меня эта тематика удивляла, но я, конечно, не показывал вида. А Зыкина сразу ещё пела, как в 1919 году на Кремлёвском субботнике по расчистке территории Ленин вместе с другими тащил на плече бревно. На эту тему даже была написана большая картина. Через пятьдесят лет, в 1970-м, власти восстановили традицию субботников по всей стране. Это считалось Ленинским почином. Плисецкая, слушая пение, злобно воскликнула:
— Вот ещё придумали эти ё…ные ленинские субботники — заставляют людей говно подбирать. И нас, балетных, тоже гоняют.
Тогда я решился прочитать ей своё слишком смелое для того времени стихотворение «Великий почин», из моих подпольных стихов, которые я никому не показывал. Но у нас с ней уже были такие близкие душевные отношения, что я не боялся:
Весенним днём, давным-давно,
Один мудак поднял бревно,
И с той поры полсотни лет
В его стране покоя нет.
Сумели люди из бревна
Наделать всякого говна,
Распространив на целый мир,
Как коммунизма сувенир.
И все готовы в каждый миг
Поднять истошно бравый крик,
И как один все заодно
Ещё сто лет таскать бревно.
Они с Родионом смеялись и записали стих на бумаге, чтобы читать другим. Я волновался, чтобы меня не арестовали. Но они обещали не раскрывать имени автора.
Упражнения в воде были настолько успешны, что вскоре я разрешил Плисецкой начать наступать на ногу, но только осторожно, на невысоком устойчивом каблуке. Она была счастлива и сказала мне:
— Я хочу, чтобы вы всегда были моим доктором.
И подарила мне свой портрет, подписав «С благодарностью»
Своевольная гордая львица стала совсем ручной. И вскоре мы перешли на ты.
* * *
Любителям балета он представляется фейерверком наслаждения: музыка, танцы, декорации, красивые длинноногие балерины… И нравятся сами бесхитростные истории, заложенные в основу представления. Чего же ещё лучше! Однажды Плисецкая пожаловалась мне на пёстрое однообразие классического балета. Она рассказала историю бюрократических трудностей, какие ставили перед ней, когда она добивалась постановки балета нового типа «Кармен» на сцене Большого театра:
— Я двадцать пять лет танцевала всё тот же старый репертуар. «Лебединое озеро» я танцевала более семисот раз. Это прекрасный балет, великая музыка Чайковского. Но для исполнителя это всё одно и то же — старая классика. Мне надоело, захотелось чего-то нового. Постановка балета «Кармен» была кубинская, его ставил по моей просьбе кубинец Альберто Алонсо, всё в новой смелой манере, все сцены и все движения отличны от классических балетов. Кубинцы хотя считаются коммунистами, но они были ближе в прогрессивному миру и не такие ханжи, как советские бюрократы.

Майя Плисецкая в балете «Кармен» Фото: Огонек
Я создала образ Кармен таким, каким его описал французский писатель Проспер Мериме в середине XIX века. Из-за популярности оперы «Кармен» яркий образ стал нарицательным. А Кармен была простая испанка лёгкого поведения. Она полюбила и завлекла солдата Хозе, потом бросила его. Хозе требовал её возвращения и грозил убить, но она не пошла против своей воли и погибла от его ножа. Вот и вся история. Основа характера Кармен — это романтизм и свободолюбие. Я так её и создавала в танцах на музыку Бизе, специально обработанную и обострённую для ритмов балета Родионом Щедриным. Но министр культуры Фурцева запретила выпуск балета. Она коммунистка, выдвиженец партии из бывших рабочих, начинала ткачихой. У неё понятие простое, пролетарское : если Кармен популярная, значит её надо показать возвеличенной. Она считала, что нельзя показывать Кармен в том виде, как я её танцевала. После просмотра балета Фурцева заявила:
— Балет в таком виде выпускать нельзя. Вы, Майя Михайловна, из героини испанского народа сделали уличную женщину.
Ну ты знаешь, я ведь всегда найду, что сказать, но на определение Кармен как героини народа я просто онемела, не знала, что ответить. Фурцева, конечно, никогда не читала Мериме. Про неё вообще ходит такая шутка. Спрашивают: как вам нравится министр культуры? Отвечают: мне не нравится культура министра.
А она горячилась и кричала:
— У вас не танцы, это сплошная эротика. Особенно в неприличном любовном адажио. Прикройте хоть голые ляжки, наденьте юбку. Это чуждый нам, коммунистам, путь в искусстве.
Дело дошло до того, что сам Брежнев потом сказал: «Ну, Плисецкой можно один раз в жизни позволить сделать, что она хочет». Так мне разрешили танцевать Кармен, и этот балет стал гвоздём всех программ и сезонов.
Я слушал её рассказ с интересом и предложил:
— У меня есть эпиграмма на Фурцеву, хочешь послушать?
Не хватает нам культуры
Для пролетарской диктатуры,
Будет бывшая ткачиха
Управлять культурой лихо.
— Это ты написал?
— Я.
Как она смеялась! И записала эпиграмму на листе бумаги:
— Буду показывать знакомым.
Тогда я принёс ей свою новую книгу детских стихов. Она схватила её и стала читать с живым интересом:
— Ой, мне нравятся детские стихи! Оставь её мне, я перепишу стихи и буду показывать другим.
— Я подарю её тебе.
— Ой, спасибо. Родион, Родион, иди сюда — Володя принёс мне свои стихи. Замечательные!
Так я приобрёл двух новых читателей и поклонников моей поэзии. Внимание таких высоких талантов мне было лестно.
* * *
Между мной и ними установились дружеские отношения, мы втроём садились за стол, домработница Катя готовила для меня мои любимые блюда, а Майя и Родион ели мало. Жили они довольно скромно, хотя по советским меркам были очень богатыми: большая квартира, дача (небольшая), три машины: «Волга» и «Ситроен» для Майи, «ровер» для поездок Родиона на рыбалку. Дом у них был полон дорогих вещей — подарков от знаменитых людей. Родион был плодовитый композитор, но богатство во многом шло от долларов, которые Майя получала за гастроли по миру. Театры всех стран платили ей большие деньги, но по советским правилам она обязана была отдавать 90 процентов государству. Это её злило, она рассказывала, как это обидно и унизительно:
— Я танцевала в Америке с Рудькой Нуриевым. Нуриев перебежчик на Запад, и нам запрещали встречаться с ним. Но он гениальный танцовщик, и там нас позвали вместе. Нам заплатили по десять тысяч долларов. Он положил деньги в карман и уехал. А я должна сдавать их в министерство. Их пересчитают и из большой кучи выделят мне тоненькую пачку -10 процентов. Это за мой труд. Это так унизительно!
* * *
Но вот наконец разорванная мышца её левой ноги окрепла, и я разрешил ей осторожно начать заниматься балетными упражнениями перед зеркалом. Сама она всё ещё сомневалась и так привыкла к моим указаниям, что попросила меня:
— Ты побудь со мной рядом, подсказывай, что моей ноге невредно делать.
У неё в квартире была комната с зеркальной стеной и поручнем для поддержки. Она попросила прийти на первые занятия своего дядю Асафа Мессерера — для руководства. Он был знаменитым в прошлом солистом Большого театра, народным артистом СССР, и славился высоким умением преподавателя. Мы были втроём в зеркальной комнате, она стояла перед зеркалом, он давал ей указания, как балетмейстер, а моим делом было следить, чтобы они не вызвали перегрузку ноги. Она спрашивала меня:
— Это можно?
После нескольких дней занятий я уверился, что её нога выдерживает нагрузку. Теперь можно было начинать разминки и репетиции в театре.
Часть третья
После более двух месяцев лечения Плисецкая наконец уверилась, что её нога окрепла и захотела начать разминки и репетиции в театре. Но она попросила меня:
— Всё-таки я боюсь оставаться без твоего контроля — как бы не перегрузить ногу. Я прошу тебя, чтобы ты поехал со мной вместе в театр.
По вторникам каждое утро артисты балета Большого театра должны были приходить в 10 часов утра для политзанятий — лекторы читали им лекции о международном положении и об успехах Советского Союза. В 11 часов начинались обычные упражнения разогревания, а потом репетиции.
Майя сказала пару нецензурных слов про лекции:
— Пока они слушают эту… лекцию, я покажу тебе сцену театра, мою сцену.
И вот мы подъехали к артистическим входам театра на его левой стороне. На стоянке машин много иностранных марок. В то время это было редкостью, но знаменитости Большого балета хорошо зарабатывали и покупали их в гастрольных поездках заграницей. Входов сотрудников несколько, для ведущих солистов и дирижёров — отдельный. Майя, в норковой шубке и шапке, легко впорхнула в подъезд, её радостно приветствовал швейцар:
— Майя Михайловна! Как я рад опять видеть вас!
Он уставился на меня, она объяснила:
— Это мой доктор. Выпишите ему пропуск, он будет со мной на репетиции.
Швейцар звонил в дирекцию, а я оглядывался вокруг: так вот через какие комнаты входили в театр все музыкальные знаменитости мира! Пропуск выписали, и Майя повела меня за кулисы сцены. Внутреннее устройство театра, тем более такого громадного и знаменитого, как Большой, — это то, что никто обычно видеть не может. Меня это интересовало и притягивало. Всё было пусто, только работали над декорациями несколько рабочих. Мы прошли под высоченные занавеси кулис, Майя рассказывала:
— Вот здесь я обычно стою, жду выхода и грею мышцы ног и спины упражнениями. Когда такты музыки приближаются к выходу, я становлюсь в позицию и выплываю или выскакиваю на сцену.
Пустая сцена была отделена от зрительного зала массивной противопожарной асбестовой занавесью-стеной. Майя попросила рабочих, они включили механизм и подняли эту стену. Знаменитый занавес театра за ней был открыт, и я увидел громадный полутёмный зал с блестками золочёных лож. Смотреть в зал со сцены, в обратном направлении, было захватывающим зрелищем. Громадность сцены и вид зрительного зала с неё подействовали на меня подавляюще: я чувствовал себя ничтожным в таком великом пространстве. Я подумал, что актёрам надо иметь привычку к этому величию. А Майе всё это было родное и привычное, и она быстро порхала по сцене.
Дощатый пол сцены был слегка покатый в сторону оркестровой ямы. Майя говорила:
— Ты не можешь себе представить, как я люблю этот пол. Я просто влюблена в него. Я танцевала на всех знаменитых сценах мира, ни на одной нет такого замечательного пола. Я знаю здесь каждую доску, с каждой у меня связаны воспоминания. Вот от той до этой я делаю прыжок-полёт, который сама придумала в «Дон Кихоте».
Я помнил её знаменитый танец в том балете, прикинул глазами расстояние и изумился — получалось, что она пролетала в воздухе почти десять метров! Из зрительного зала это расстояние не определишь.
Я всматривался в дощатый пол и представлял себе, как он оживает, когда на нём появляются сотни артистов, гремит музыка, и все они двигаются — танцуют или поют. И вот я стою здесь с Майей Плисецкой — царицей этой сцены. У меня захватывало дух.
Она повела меня наверх, в свою гримуборную:

Галина Уланова и Майя Плисецкая во время репетиции. 1969 год. www.uznayvse.ru
— Мы делим эту комнату с Улановой и Семёновой. Ты их сейчас увидишь на репетициях. А пока подожди в коридоре, я переоденусь.
Все помещения были довольно простые, крашенные светло-серой краской, но я с восторгом думал, как тут проходят все эти знаменитые люди. Ведь балерины Уланова и Семёнова были звёзды такой же величины, как Плисецкая, хотя обе уже перестали танцевать и только вели репетиции как преподаватели.
Майя вышла, переодетая в обтягивающий чёрный костюм, на ногах балетки.
— Пошли, теперь наши балетные будут собираться в классном зале. Я тебя всем представлю. А ты не давай мне увлекаться на разминке, чтобы я не сделала чего-нибудь лишнего.
В большом зале по стенам шли поручни, за которые артисты держатся, упражняясь, и зеркала, чтобы проверяли своё отражение. В углу — пианино для аккомпанемента. Я чувствовал себя неловко в незнакомой обстановке и встал недалеко от входа, Майя рядом. Один за другим появлялись балетные, все в разных тренировочных костюмах, зачастую старых и рваных. Они с радостной улыбкой подходили к Майе, заговаривали, некоторые целовали, и все с интересом косили на меня. Она меня представляла:
— Это мой спаситель.
Передо мной вереницей проходил весь Большой балет. Нельзя себе представить другое такое сборище молодых красавиц и красавцев: все стройные, худые, с какой-то особой горделивой постановкой корпуса, со своеобразной лёгкой походкой. Да и неудивительно — их отбирают ещё детьми и потом десять лет обучают и тренируют в балетной школе. Мужчины все высокие, с прекрасными фигурами — широкими плечами, узкими тазами. Женщины показались мне ростом меньше обычного, со стройными длинными ногами. Вблизи они оказались непомерно худыми, как истощённые — никаких обычных женских форм тела ни спереди, ни сзади. Я ожидал увидеть этих молодых людей оживлёнными, весёлыми, но, к моему удивлению, многие шли вяло, устало, лениво позёвывая; некоторые мужчины держались руками за свои плечи или поясницы — знак боли. Впечатление, будто среди них много инвалидов. Майя прокомментировала:
— У наших мужчин мышцы устают от прыжков и подъёмов балерин. Но погоди — ты увидишь, как они будут прыгать, когда разогреются на упражнениях.
Лица некоторых были мне знакомы: вот два брата Майи — Александр и Азарий, артисты средней величины (я ходил к Майиной маме вместе с ней и познакомился со всей семьёй). А вот Владимир Васильев, премьер труппы, он морщится от какой-то боли, за ним второй премьер Марис Лиепа, бывший муж Майи, он тоже вялый и даже слегка прихрамывает. А вот и знаменитая Екатерина Максимова, жена Васильева, миниатюрная, как девочка-подросток, и такая хрупкая, что непонятно, как она может танцевать тяжёлые ведущие партии. Подошёл Николай Фадеечев, Майин постоянный партнёр, пожал мне руку:
— Спасибо вам за Майю.
Она попросила его:
— Подними меня, а то я отвыкла.
Он лёгким движением, в одно мгновение поднял её над головой. Как он это делал? Майя плавно двигала руками, как плыла, а опустившись на пол, сказала мне:
— Пойдём, я представлю тебя Улановой и Семёновой.
Эти две знаменитости, которых все привыкли видеть на спектаклях порхающими над сценой в белых юбках-пачках, вблизи выглядели как пожилые женщины, в обычных платьях и в обычных туфлях, но очень стройные. Майя подвела меня со словами:
— Это мой спаситель, он меня буквально спас.
Мне неловко, я смущённо улыбался. Они приветливо улыбнулись, пожали руку:
— Спасибо вам за Майю.
В это время в зал пришла аккомпаниаторша, молодая женщина. На фоне истощённых фигур балерин у неё были обычные формы тела; она показалась мне привлекательней балерин. Все выстроились у стен, взялись за поручни и начались упражнения. Все одинаково ритмично поднимали ноги, подпрыгивали, откидывались назад. Это продолжалось полчаса. Я следил за Майей и давал ей знак — делай помедленней, не увлекайся.
Следующие упражнения были в центре зала. Те самые балерины, которые вблизи казались страшно истощёнными, теперь в элегантных движениях пируэтов и в кружении на пуантах выглядели идеалом прекрасных фигур. Мужчины поднимали их, приседали и подпрыгивали. Поразила меня Катя Максимова — она развивала такую бешеную скорость в кружениях фуэтэ и так высоко подпрыгивала, что нельзя было представить, как выдерживает её хрупкое тело.
Завершающими упражнениями были прыжки-полёты. Этого я Майе не разрешил — рано, особенно если она захочет сделать свой десятиметровый прыжок. Под бравурную музыку разгорячённые мужчины один за другим помчались кругами по залу, выбрасывая вперёд одну ногу и высоко взлетая. Куда девались их ужимки от болей! С поразительной скоростью они пролетали прямо передо мной. Впечатление было такое, что это скачут бешеные кони — от их полётов веяло ветром и несло потом.
В этот день я смог по-настоящему оценить, какую громадную физическую работу должны делать артисты балета, чтобы показывать зрителям изящные танцы на сцене.
* * *
В сезон 1970 года в Большом театре выступал Парижский балет. Эта балетная труппа была в Москве впервые, и гастроли стали сенсацией театрального мира. Гвоздём их программы был «Собор Парижской Богоматери» в постановке знаменитого балетмейстера Ролана Пети, на сюжет романа Виктора Гюго — любовь горбуна Квазимодо и красавицы-цыганки Эсмеральды. Вся Москва, как говорится, сходила с ума, хотела попасть на этот балет.
Майя с Родионом пригласили нас с Ириной на этот спектакль, купили билеты в первый ряд партера (очень дорогие), заехали за нами, и мы вчетвером вошли через подъезд №6 — директорский вход, в него впускают лишь избранных. Как только мы вошли в холл, сразу натолкнулись на министра культуры Фурцеву. Она тепло улыбнулась Майе:
— Майя Михайловна, рада вас видеть! Как Ваше здоровье?
Майя подвела меня в ней:
— Это мой спаситель, он поставил меня на ноги.
Фурцева заинтересованно смерила меня взглядом, пожала руку:
— Спасибо, что спасли гордость нашего советского балета.
Другая фигура в холле был Дымшиц — заместитель председателя Совета министров, единственный член правительства еврей. Он приветливо кинулся к Майе — они встречались на правительственных приёмах. Майя опять представила меня теми же словами. Был там композитор Тихон Хренников с женой, первый секретарь Союза композиторов. Это наши с Ириной старые друзья, они рекомендовали меня Плисецкой.
Его жена Клара воскликнула:
— Я была права, когда рекомендовала вам Володю. Лучше него доктора нет.
Майя согласно кивала головой, держала за руку и прижималась плечом. Я чувствовал себя перехваленным, и мне было неловко. Но благодарные пациенты часто превозносят своих излечителей (зато если врач не помог… тогда хуже него нет никого).
Общество вокруг было знатное, все дамы одеты в дорогие норковые и песцовые манто, только моя Ирина в лёгкой шубке из барашка. (Мне было обидно за Ирину, и я поклялся себе, что когда-нибудь тоже куплю ей дорогую шубку, но осуществить это я смог только после многих лет в Америке).
В антракте мы с Майей и Родионом прогуливались по фойе второго этажа. Там была элита столицы — министры, послы, артисты и другие сильные мира сего. Появление Плисецкой среди зрителей вызвало сдвижение фланирующей толпы и шорох восклицаний «Глядите — Плисецкая!». Все взоры обратились на неё, многие знали её и подходили здороваться, и она всем представляла меня:
— Это профессор Голяховский, мой спаситель (профессором я ещё не был, это она меня произвела).
Когда показываешься в обществе вместе со знаменитостью — луч славы отражённо падает на тебя. Это совсем непросто переносить, я стеснялся. И в тот момент я увидел в толпе своего директора академика Волкова. Он давно был зол на меня, что я не спросил его разрешения лечить Плисецкую. А мне оставался всего месяц до защиты диссертации, и, зная интриги в институте против меня и его влияние, я волновался — не отзовётся ли это на результате голосования? Директор направился к нам, я быстро шепнул Майе:
— Волков идёт, выручай, чтобы он на меня не злился из-за тебя.
Майя встретила Волкова с артистической любезностью, слегка свысока, как королева, произнесла:
— Я очень-очень благодарна Володе. Хорошо, что у вас есть такой замечательный доктор.
Он сразу смягчился, заулыбался в мою сторону.
— Конечно, конечно, Майя Михайловна, я его очень ценю. Приходите на его защиту.
Только этого ещё не хватало, подумал я. Если бы она появилась на заседании Учёного совета, это могло только обозлить моих недоброжелателей. Но, кажется, Майя смогла положительно настроить моего директора.
Во втором акте мы опять уселись смотреть головокружительные прыжки Квазимодо и очарование танцев Эсмеральды. Майя была в восторге, горячо аплодировала. Во втором антракте она ушла за кулисы познакомиться с артистами и поблагодарить их.
После окончания балета Майю долго задерживали знакомые и почитатели. Наконец, мы вышли, на улице был страшный мороз. И вдруг мы увидели, что около входа собрались исполнители ведущих ролей французского балета. Непривычные к русской зиме, все мерзли в лёгких европейских пальто. Они ждали Майю и, как только она вышла, они стали кланяться ей, мужчины сняли шапки, женщины приседали в поклоне почтения. И все быстро-быстро наперебой говорили что-то. Из всех нас французский знала только Ирина, она перевела:
— Они выражают своё почтение великой актрисе и неповторимой балерине.
Майя кинулась надевать на мужчин шапки:
— Наденьте, наденьте, вы простудитесь!
Этот акт признания Плисецкой её французскими коллегами был завершением одного из самых замечательных вечеров в нашей с Ириной жизни.
* * *
Моё лечение Плисецкой закончилось, оставался только один самый важный момент — увидеть её вновь танцующей. Она пригласила нас с Ириной на первое после травмы представление «Кармен», мы опять сидели в первом ряду вместе с Родионом. Это он так удачно обработал музыку Бизе, придал ей ритмичность, необходимую для балета. Я волновался — как поведёт себя Майина нога? И вот занавес открылся, бурные такты музыки, Майя стоит под большим красным занавесом, вся — грация. В нарастающем грохоте ударников ей предстоит сделать первое движение — «нашей» левой ногой. Я замер.
Она с силой ударила ею по своему любимому полу на сцене… Только мы с ней вдвоём знали, какую громадную работу проделали над этой ногой. Весь вечер я концентрировался на слежении за ногой. Когда я смотрю на танцы Майи, у меня всегда выступают слёзы — слёзы от глубины чувств. А в тот вечер я почти заливался слезами, это был знак прощания с яркой страницей моей профессиональной жизни.
Балет кончился, Майя выходила на аплодисменты, она подошла к краю сцены ближе ко мне, присела в глубоком поклоне и послала мне воздушный поцелуй. Со слезами радости и гордости я аплодировал её гениальному искусству.
На следующий день они с Родионом позвонили мне домой:
— Мы хотим приехать к вам.
Они привезли мне подарок — дорогой японский магнитофон (в 1970-е годы это была мечта всех, мало кому доступная; они купили его за доллары на международном вокзале для иностранцев в аэропорту «Шереметьево»). Родион подарил мне пластинку своей «Кармен-сюиты» с трогательной надписью: «Ты доказал, что, как говорят на Руси, не стоит село без святого. Спасибо тебе».
Есть такая редко применяемая русская поговорка, что в обществе кто-то должен быть святым. Я, конечно, святым себя не считал, но всё-таки выполнил святой долг — вылечил ногу великой балерины.
* * *

Майя Плисецкая и Родион Щедрин. www.wday.ru
Защита моей докторской диссертации прошла с некоторыми осложнениями, но всё-таки благополучно. Майя и Родион приехали ко мне на банкет и привезли полдюжины французского шаманского — было чем запивать тосты. Потом я был доктором Майи ещё несколько лет, опять и опять помогал ей превозмогать боли от перегрузок. И другие артисты балета тоже лечились у меня, Майя сама привозила их ко мне. Даже министр Фурцева поверила в меня и захотела, чтобы я делал операцию её взрослой дочери.
В 1978 году я с семьёй эмигрировал в Америку. С Майей Плисецкой мы встретились в 1996 году, через 18 лет. Она давала последнее выступление в Нью-Йорке. В 71 год она ещё исполняла «Умирающего лебедя». После концерта я подошёл к ней, мы обнялись и она подписала мне свою книгу: «Моему дорогому другу Володе Голяховскому». Ещё через 18 лет, в 2015 году, Майи не стало, ей было 89 лет.
Я написал прощальное стихотворение:
МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ
Плисецкая завещала развеять
её прах над Россией
Над Россией вьётся пепел,
Я любуюсь, не дыша,
Этот пепел чист и светел,
Это Майина душа.
Это Майины движенья,
Майин в воздухе полёт,
Любоваться наслажденье —
Майя реет и плывёт.
Я молюсь на Майю слёзно.
Вся подобная мечте,
Майя кружит грациозно,
В мягких вихрях фуэте.
Руки Майины порхают,
В белоснежных облаках,
Кто их видел это знают —
Сколько славы в тех руках.
Лебединого полёта
Лебединый поворот —
В невозвратные высоты
Майя лебедем плывёт.
Вот её балетки глянцем
Промелькнули, вознесясь…
Майя вся, в последнем танце,
Над Россией пронеслась.
Владимир Голяховский
Источник: gazeta-licey.ru